Нормализация
— вот как называется это явление в психологии. Это когда еще вчера
вызывавшее неприятие, страх, возмущение и протесты сегодня принимается
как обыденность. Как новая норма. Нормально, когда муж опять пришел
пьяный. Нормально, когда женщина без паранджи и сопровождающего мужчины
не может выйти. Нормально, когда коммунисты крестятся в церкви.
Нормально, когда нужные вещи или продукты надо «доставать». Нормально,
когда надо выступать на собраниях с обличением своих товарищей.
Нормально, когда по ночам стучат по лестницам сапоги…
Теперь я
понимаю, почему многие пережившие сталинские репрессии уверяют, что
«ничего такого не было». Все они, конечно, видели и знали. Просто
отодвинули на край сознания, сделали привычным фоном. Новой нормой.
Психологи
объясняют — это механизм, вшитый в нашу психику самой природой. Человек
— создание адаптивное, а для адаптации к новым условиям необходим и
механизм, превращающий эти условия в норму. Даже если они совсем не
нравятся.
Так что не стоит
обвинять российских знакомых в том, что они считают все это правильным
или что их не коснулись последствия агрессии их страны.
Нет,
они не считают это правильным, все мои знакомые вполне адекватно и
резко оценивают происходящее. И последствия их коснулись, хотя их
неудобства и близко не сравнимы со страданиями украинцев — и они,
кстати, это понимают. Просто иначе, как выразилась моя приятельница, «мы
бы давно кукухой поехали». Вот от этого и спасает нормализация.
Но
у любой адаптации есть последствия. И я эти последствия вижу на своих
знакомых. Что самое опасное — они этого не только не замечают, но и
яростно отрицают, когда я на них указываю. Настолько яростно, что мне,
как человеку когда-то изучавшему психологию, ясно, что это — не
непонимание, а нежелание лишится защитного покрова нормализации.
Во-первых,
многие отказались от планировавшейся эмиграции. Вовсе не потому, что
угрозы от которых они собирались уехать, исчезли. У тех же соседей по
поселку угрозы, как видите, возросли. У нескольких знакомых — сыновья
призывного или предпризывного возраста, некоторые сами легко могут
попасть под мобилизацию, несколько знакомых ясно понимают, что их
профессия скоро кончится или встанет на обслугу режима. И нет,
эмигрировать для них не стало невыполнимой задачей. Просто… Они и сами
не могут объяснить, в чем тут дело, приводят разные, часто
несущественные или преодолимые причины и при попытке разобраться уходят
от разговора. И я понимаю — это тоже последствия нормализации. Когда
невыносимое стало выносимым, опасное — привычным, очень трудно сделать
шаг за пределы пресловутой зоны комфорта, пусть даже эта зона теперь
очерчена только стенами твоей квартиры.
Во-вторых, принимаемые ими решения, в том числе, экономического плана, начинают отдавать, прямо скажем, безумием.
Одинокая
подруга обустраивает дом в глухомани — собирается пережить там тяжелые
времена. На аргументы, что ей там никак не будет безопасно — в окружении
довольно-таки маргинальных деревенских мужиков, каждый первый из
которых сидел, не отвечает. Хотя ее дом уже дважды обнесли.
Знакомая
семья озабочена покупкой квартиры. Льготная ипотека им не светит,
поэтому ищут что подешевле. Объясняют, что хотят сохранить сбережения. И
совершенно бесполезно говорить, даже с цифрами в руках, что брать
ипотеку без льготной ставки — безумие, что рынок недвижимости перегрет,
что есть масса других вариантов сберечь накопления. Они даже не спорят.
Просто ищут варианты.
У еще одной знакомой сын вернулся из Европы,
где жил с матерью, в Москву. Позвал отец — надо, говорит, поступать в
московский вуз. И сын поехал. Мать в шоке: парень не так чтобы гений,
гарантий поступления в институт нет, так что у него есть ненулевая
возможность оказаться призванным в армию. Отец успокаивает: «Да
нормально у нас тут все».
Так что же делать, спросите вы?
С одной стороны — не хочется сойти с ума. С другой — как при этом не потерять все же связи с реальностью?
На
одной из работ у меня были двое примечательных коллег. Когда на
утренней пятиминутке объявлялось о какой то проблеме, один из них сразу
спрашивал: «И кто виноват?», а второй: «И что же делать?». Бывало, они
задавали свои вопросы хором, чем веселили собравшихся. Так вот, второй
был гораздо менее конфликтен, более продуктивен и оптимистичен. И очень
скоро сделал неплохую карьеру. Потому что сосредоточенность не на
эмоциональной оценке происшедшего, а на рациональных размышлениях о том,
как с ними справиться, помогает уйти от паники и остаться в трезвом уме
в экстремальных обстоятельствах.
Поэтому мой совет всем, для кого
действительность стало привычно-ужасной (и это касается не только тех,
кто в России) — попробуйте перейти к вопросу «что делать». Попробуйте
воспринимать происходящее как задачи, как вызов вашим способностям
выжить, оставшись человеком. Превратите проблему в задачу. Перейдите из
состояния «что они творят» в состояние «чем мне это грозит и как я могу
этой угрозы избежать». Это, конечно, не значит, что вас не будут
захлестывать эмоции — почти каждый день происходит нечто, на что
невозможно не реагировать эмоционально. Но это даст возможность
направить свои эмоции в нужное русло. Рационально подойти к проблеме и
найти решение. И, соответственно, уберечь себя, оставаясь человеком.
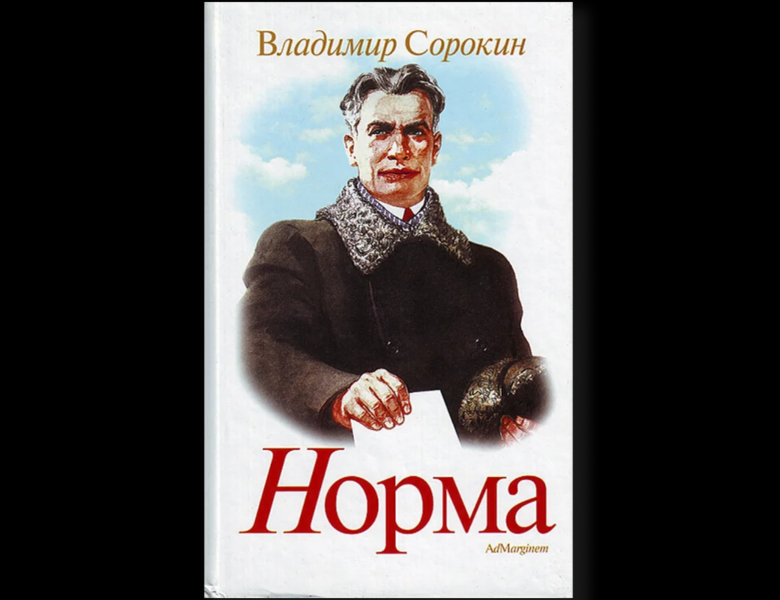
Комментарии
Отправить комментарий